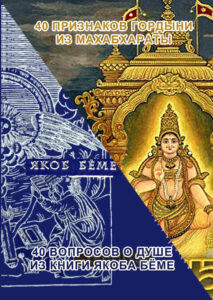- Начало (Часть 1 за 7 июля)
- Продолжение (Часть 2 за 23 июля)
- Окончание (Часть 3 за 8 августа)
- Заключение
В конце октября 1987 года в Риме подходил к концу Генеральный Синод Епископов, который почти два месяца обсуждал тему “призвания и миссии мирян в Церкви и мире”.
Эта проблема широко обсуждалась и вне Синода, и ее обсуждение сопровождалось яростными спорами, потому что речь шла о насущном и важном вопросе – о “самотождестве христианина”, иначе говоря, о том, что значит сегодня быть христианами, без дополнительных определений или особых призваний, оставаясь там, где все другие люди живут и творят историю.
Прежде чем епископы разъехались из Рима, – несмотря на то, что еще не были подведены итоги обсуждения, – в дело вмешался Папа. Его вмешательство было хотя и опосредованным, однако весьма значимым: он предложил как пример для подражания образ и жизнь одного христианина-мирянина.
Итак, он приступил к канонизации с такими словами:
“Человек, к которому мы сегодня будем взывать как к святому вселенской Церкви, представляется нам конкретным воплощением идеала христианина-мирянина: это Джузеппе Москати, главный врач больницы, видный ученый, доцент университета по физиологии и физиологической химии…”.
По правде говоря, не многие знали Москати: большинство епископов и верующих с удовлетворением восприняли подтверждение основного тезиса соборного учения: тезиса о том, что и миряне призваны к святости и могут достичь ее в миру, занимаясь своей мирской профессией.
Некоторые знали побольше и могли долго рассказывать о необычайных добродетелях этого нового святого, особенно о тех, которые сегодня представляются самыми ценными: любви к бедным, абсолютном бескорыстии, верности Евангелию, самопожертвовании…
Однако очень немногие – даже среди сведущих людей – были расположены безоговорочно принять бесспорную и бескомпромиссную данность: то представление о “христианине в миру”, которому следовал и которое защищал Москати.
Необходимо сказать об этом сразу со всей ясностью: с точки зрения “мирской” Москати вел себя как раз наоборот тому, чему учили все, кто пытался точно очертить границы, в рамках которых должен оставаться мирянин: Москати не признавал никаких границ и разделений.
Современные католики-интеллектуалы очень любят расплывчатую формулу Маритэна, учившего “разделять во имя единения”. Другие, более близкие к истине, говорят скорее о необходимости “разделять в едином”. И все имеют в виду, что необходимо с мудрой осмотрительностью сопрягать то, что принадлежит вере, и то, что принадлежит науке, то, что принадлежит Церкви, и то, что принадлежит миру, то, что относится к исповеданию христианской веры, и то, что относится к роли человека в обществе.
Так вот, мы не хотим сказать, что этих проблем не существует или что они не имеют значения.
Мы просто говорим, что если у Москати была своя харизма и свое призвание в Церкви, то именно он явил такое единство между различными сферами жизни (прежде и сверх любого возможного разделения), что, казалось, сделал невероятное: сегодня никто не осмелился бы подражать ему, соединяя вместе, как он, науку и веру, профессию и исповедание христианской веры, лечение тела и лечение души. Более того, об этих аспектах его жизни биографы рассказывают с недоумением, приуменьшая их значение.
Иначе говоря, обращаться к примеру Москати в современной полемике о роли мирян – значит бросать вызов и чуть ли не быть поднятым на смех.
Но начнем с бесспорного – с подтверждения того, что все христиане призваны к святости: все могут стать святыми.
Отныне это знают все верующие, и священники говорят об этом в проповедях, но многие миряне все же остаются при убеждении, что на самом деле святость – это недостижимый идеал, которому суждено постепенно сдавать свои позиции под натиском жизни с ее неумолимыми законами. Конечно, мирянин, который хоть немного любит Иисуса Христа и Его святую Церковь, не может не чувствовать в душе тоску по святости, но нельзя не сомневаться в том, возможна ли она для тех, кто живет в миру, на каждом шагу сталкиваясь с его противоречиями.
Невольно думаешь о том, что если какому-нибудь мирянину удалось стать святым, так только потому, что он жил как бы на окраине мира, не решая огромного множества жизненных проблем, мало завися от обстоятельств.
Невольно думаешь, например, о том, что мог бы стать святым какой-нибудь санитар, который как миссионер посвятил бы себя своим больным, служа им с неизменной любовью, терпеливо снося придирки своих коллег и самих больных, сохранив чистое, доброе сердце, не поддаваясь ежедневной усталости и не очерствев.
Но когда святым становится главный врач, облеченный властью, ученый, принимавший участие в конференциях, председательствовавший на конкурсах, с толпой учеников и научными публикациями, знаменитый диагност, к которому обращались за советом изо всей Италии и из других стран, – в этом случае, конечно, появляется любопытство и желание узнать, как ему это удалось, и посмотреть, можно ли ему подражать в обыденной жизни.
Когда перечитываешь биографии Москати, сразу же обращаешь внимание на его высокие нравственные достоинства. В предисловии к последнему изданию его сочинений говорится:
“Москати – это мирянин, который обращается прежде всего к нам, мирянам, и не столько словом, сколько свидетельством своей повседневной жизни. Его призыв – это призыв к последовательности и исполнению долга, и мы не можем остаться равнодушны к этому призыву, если не хотим отказаться от своего призвания”.
В этих словах, бесспорно, указывается простой и непосредственный путь к восприятию каждого святого (и, действительно, в биографиях это всегда подчеркивается): необходимо учиться у святого его твердости в исполнении долга и его последовательности.
Но такой внешне простой подход на самом деле остается бесплодным, как и все призывы моралистического толка: то, что святому необходимо подражать, – это очевидная истина, которую нет смысла лишний раз повторять. Важнее другой вопрос: благодаря чему подражание возможно?
Святой – это не герой, которого предлагают толпе робких людей, требуя от них набраться храбрости и рискнуть подражать ему, с надеждой, что по крайней мере кто-нибудь на это решится, однако в уверенности, что основная масса останется неизбежно очень далека от него: святой – это дар Божий, освещающий мир обычных людей, но именно им указующий, где оказывается сопротивление благодати, где та точка, в которой человек – любой человек, должен “уступить”, чтобы позволить себя “взять и вознести”.
Святой – это образец, который можно предложить всем, потому что его опытом могут воспользоваться действительно все, немедленно (даже те, у кого нет ни грана силы и решимости и ни грана последовательности, на которые можно было бы рассчитывать), потому что это свет, просвещающий нас с неба и освещающий все сущее, даже если реальная жизнь презренна и грязна. И это озарение уже в себе самом – очищение, изначальное освящение.
Конечно, со временем встанет и вопрос о решимости и последовательности, но он будет следствием того бескорыстного света, льющегося с высоты, который обладает способностью тронуть самое иссохшееся сердце и оплодотворить самую бесплодную землю.
И это особенно справедливо в случае с Москати, нравственные добродетели которого, как мы уже говорили, – альтруизм, бескорыстие, бедность, профессионализм и так далее – конечно, легче принять, чем его представление о самотождестве христианина, о целостном синтезе естественных и сверхъестественных аспектов его призвания и миссии.
Нельзя скрыть того обстоятельства, о котором совершенно однозначно свидетельствуют документы: теоретическое представление о роли христианина в миру, которое Москати воплощал в жизнь, сегодня было бы решительно отвергнуто большинством христиан, которые обсуждают эту проблему и пишут о ней. И не без основания, если только не видеть в самой святости Москати своеобразного богословия, претворенного в жизнь: слова, которое Бог пожелал сказать нам, делом предвосхитив все наши ученые споры и различения.
Обычно, когда Бог посылает в мир эти “живые слова”, Он делает это не без лукавства, ибо, по словам св. Павла, угодно Ему погубить мудрость мудрых и разум разумных отвергнуть, “мудрость мира сего обратив в безумие”.
И эта мудрость может быть “мирской”, даже если это мудрость известных богословов или святых ученых.
Канонизируя Москати, Иоанн Павел II сказал мирянам не учиться прежде всего его нравственным добродетелям, но учиться размышлять о своем собственном призвании: “Ставя перед нашими очами человека, признанного святым, Церковь говорит всем мирянам: “Размышляйте о своем призвании!””.
Мы тоже начнем с рассказа о примере высокой нравственности, который нам оставил святой, не забывая, однако, о том, что его высокая духовность – это как бы заметки на его удостоверении личности: они служат для того, чтобы опознать его, но не представляют собой его самотождества. Самотождество вырисовывается из его личного образа, сердца, восприятия отношений между врачом и больным как части истории христианского спасения.
Джузеппе Москати родился в 1880 году в Беневенто. Ему был всего год, когда его отца-чиновника перевели в Анкону, а потом, когда Пеппино было четыре года, в апелляционный суд Неаполя.
Итак, его городом стал Неаполь: здесь он принял первое причастие, здесь кончил классическую гимназию и получил высшее медицинское образование в 1903 году.
Его детство и юность были ничем не примечательны – он рос в подлинно христианской семье, которую не обошли стороной несчастья: внезапно, когда Пеппино только что поступил в университет, умер его отец; через несколько лет после долгой болезни в возрасте всего 32 лет умер его брат. Врачебной деятельностью Джузеппе Москати занимался 24 года – он умер в 1927 году, когда ему было лишь сорок семь лет.
Пройдя по конкурсу, он получил должность внештатного адъюнкта в одной из неаполитанских больниц в 1903 году. Во время извержения Везувия ему поручили руководить эвакуацией больницы в Торре дель Греко – он спас больных, рискуя собственной жизнью.
В 1908 году он стал штатным ассистентом кафедры физиологической химии.
В 1911 году он стал штатным адъюнктом больницы, победив в конкурсе, в котором участвовали самые видные медики и преподаватели Южной Италии, поскольку конкурса ожидали уже тридцать лет. Москати был самым молодым из кандидатов и победил, оставив позади двух будущих директоров университетской клиники. Его приняли в члены Королевской Медико-Хирургической Академии. В том же году он получил право свободного преподавания физиологической химии и впоследствии преподавал в больнице в течение более двенадцати лет.
В 1919 году он был назначен главным врачом III палаты для неизлечимо больных.
В 1922 году специальная комиссия министерства общественного просвещения дала ему право свободного преподавания в общей лечебной клинике.
В 1923 году он был послан итальянским правительством на международный физиологический конгресс в Эдинбурге в качестве его представителя.
Мы бегло перечислили основные этапы его профессиональной карьеры именно для того, чтобы с помощью простого перечня дат, титулов и должностей показать, что в жизни Москати было все, о чем мечтает для себя любой студент-медик, хотя, быть может, и в других формах и в другой сфере деятельности. Скажем еще только о том, что медицинский факультет неаполитанского университета был готов предоставить Москати кафедру клинической физиологии, если бы он только этого захотел.
Точно так же мы могли бы перечислить список его научных статей, начиная с дипломной работы на тему “Печеночный уреогенез”, рекомендованной к печати, до двух последних статей, написанных для журнала Риформа медика (он был редактором этого журнала по материалам на английском, немецком, французском и испанском языках): статьи “О так называемом антагонизме надпочечников и поджелудочной железы” и “О лимфатических путях от кишечника к легким”.

 Продолжение (Часть 2 – за 7 и 23 июля)
Продолжение (Часть 2 – за 7 и 23 июля)
Но в чем проявилась особая святость Москати, сделавшего такую блестящую и быструю медицинскую карьеру?
Прежде всего мы должны вспомнить о времени, когда он жил. Его биограф справедливо пишет:
“Образ Москати нужно рассматривать в контексте культурной атмосферы, определяющую роль в которой играл позитивизм, распространившийся в последние годы XIX и в начале XX века. Москати принадлежал к числу мирян, которые, несмотря на модные веяния, оказали определяющее влияние на современный мир, вновь явив ему жизнеспособность и вечную юность Церкви”.
Документ, легший в основу процесса о беатификации (в ходе этого процесса были собраны все свидетельства о Москати), начинается с замечания, интересного прежде всего потому, что оно относится к 1944 году, времени сразу же после окончания войны:
“Раб Божий жил в наше время, когда по вине так называемого лаицизма масса народа была оторвана от Церкви, вера была отделена от науки и противопоставлена ей, исповедание христианской веры было отделено от занятий свободными искусствами и от гражданских обязанностей, отодвинуто и ограничено невидимыми рамками сознания. Против подобного пагубного лаицизма Божественное Провидение призвало выдающихся мирян, которые, движимые апостольским духом, в какой-то степени несли священническое служение (“sacerdotalia munera”) и помогали священникам, выдающихся врачей, которые в своей жизни чудесным образом явили единство веры и науки, выдающихся граждан, которые, открыто исповедуя свою веру и исполняя свою общественную миссию, превзошли всех в честности и стали возвышенным примером для общества”.
Смысл этой оценки – которой последующие биографы несправедливо пренебрегли – в указании на суть свидетельства Москати. При этом авторы этих строк не рассматривают его образ в отрыве от исторического контекста, видя в нем только “святого врача” и подчеркивая его великодушие, скромность, серьезность и бескорыстное служение неимущим.
Конечно, эти черты тоже прекрасны и трогательны и ими ни в коем случае нельзя пренебрегать, но, не идя дальше них, мы рискуем любоваться красотой цветов, не думая о корне, их питающем.
Как бы то ни было, начнем с рассказа о личных достоинствах Москати, сразу же покоряющих сердца.
Среди коллег Москати был известен своим бескорыстием. Вот знаменательное свидетельство врача, который часто наблюдал, как он лечит больных:
“Видя в больных образ скорбящего Христа, он не хотел брать с них денег и всякий раз, когда ему их предлагали, видимо страдал”.
Посещая богатых или зажиточных людей, он, конечно, брал причитающуюся ему сумму, но перед своей совестью и перед Богом он всегда заботился о том, как бы не взять лишнего.
Вот письмо, посланное им жене одного пациента:
“Досточтимая госпожа, я возвращаю вам часть гонорара, потому что мне кажется, что вы дали мне слишком много. Конечно, от каких-нибудь акул я взял бы больше, но от тружеников – нет. Я надеюсь, что Бог пошлет вам радость, исцелив вашего мужа. И сделайте так, чтобы он не удалялся от Бога и посещал источник спасения (св. причастие). С наилучшими пожеланиями Дж. Москати”.
Однажды его несколько раз звали к больному пятнадцатилетнему мальчику, которого он полностью вылечил. Закончив лечение, он получил конверт с гонораром. Возвращаясь домой, Москати открыл его и увидел, что там была довольно значительная по тем временам сумма – тысяча лир. По свидетельству очевидцев, он внезапно повернул обратно, в волнении взбежал по лестнице и отдал конверт, сказав с раздражением: “Вы либо с ума сошли, либо приняли меня за вора”.
Все сразу же подумали, что знаменитый профессор недоволен тем, что получил слишком мало, и отец мальчика в замешательстве протянул ему другую бумажку в тысячу лир. Однако профессор не только с неудовольствием отверг это новое приношение, но, открыв бумажник, вернул восемьсот лир, утверждая, что двухсот более чем достаточно. Потом он ушел со спокойной совестью, оставив семью пациента в полном недоумении.
Таким образом, если богатые звали его наперебой из-за его славы диагноста, бедные шли к нему чередой, потому что они знали, что он не попросит у них платы за лечение и что оно, напротив, может быть им выгодно. И действительно, в самых тягостных случаях Москати клал несколько денежных бумажек в рецепты или под подушку нуждающегося пациента, особенно когда замечал, что болезнь началась или усугубилась из-за недоедания.
Иногда он сам покупал те лекарства, которые выписал, или оплачивал лечение в больнице тем, у кого не было такой возможности.
Однажды его коллега, сопровождавший его к больному, от имени всех остальных заметил, что его бескорыстие ставит их всех в неловкое положение, но получил от Москати достаточно выразительный ответ:
“Пеппи, извините, здесь мать плачет о больном сыне, а вы мне о деньгах!”.
Его могли позвать в кварталы, пользовавшиеся самой дурной славой, в темные переулки, куда было опасно углубляться, в обветшавшие парадные, где ему приходилось освещать себе дорогу спичками, но он никогда не отказывался приходить по вызову. Когда ему говорили о том, что это опасно, он отвечал:
“Нельзя бояться, когда идешь делать добро”.
Один его друг встретил его вечером в Вомеро, на площади Ванвителли, далеко от мест, где он обычно бывал. Он спросил его, что он делает в этих краях:
“Знаешь, – сказал со смехом Москати, – я каждый день прихожу, чтобы служить плевательницей для одного бедного студента”.
Дело в том, что один молодой человек, больной туберкулезом, хотя и не в заразной стадии, снимал комнату. Если бы хозяева узнали, что он болен, они выставили бы его на улицу, и поэтому Москати приходил каждый день унести грязные платки, чтобы сжечь их, и оставить чистые.
В доме у Москати его сестра, которая вела его хозяйство, получала весь его заработок и распоряжалась им, оставляя необходимое для достойного существования и отдавая все остальное нуждающимся. Сам профессор возвращался от больных, принося с собой адреса бедных семей, с которыми он познакомился, и передавал их сестре с наказом позаботиться о них.
Один случай особенно трогателен и свидетельствует о поистине необычайной доброте.
Жил-был бедный и одинокий старик, который когда-то сочинял песни (в те годы в Неаполе были сочинены самые знаменитые песни): его здоровье было в критическом, хотя и не безнадежном состоянии, и болезнь могла внезапно обостриться. Ему нужно было постоянное медицинское наблюдение, но Москати не мог за ним наблюдать, потому что был очень занят в больнице. Поэтому они договорились так: каждое утро старик приходил в кафе на улице, по которой Москати шел в больницу и там (конечно, за счет профессора) выпивал чашку горячего молока с печеньем. Профессор проходил, заглядывал в кафе, проверял, там ли старик, улыбался ему и сразу же уходил. Если несколько дней подряд он его не видел, то знал, что должен как можно скорее зайти в его лачугу на окраине города, чтобы оказать ему помощь.
Рассказы такого рода можно было бы умножить, но нельзя забывать, что милосердие Москати было не милосердием спокойного благодетеля, но милосердием видного врача, чья профессия связана с нервным напряжением, к которому постоянно обращаются со всех сторон с просьбами: как ученый он должен был следить за новинками, проводить опыты в лаборатории, писать научные доклады; его присутствие как лечащего врача было необходимо как в больнице, так и в домах частных лиц, которые постоянно обращались к нему с настойчивыми вызовами; он должен был готовиться к занятиям, преподавать, следить за работой учеников и, наряду со всем этим и прежде всего, – как христианин он взял себе за правило никогда не уклоняться от помощи беднейшим из бедных.
После его безвременной смерти друзья говорили о его “труде, ежедневном, ежечасном, без отдыха, без передышки”. Тем, кто спрашивал его, как он все это выносит, он просто отвечал:
“У того, кто причащается каждое утро, неиссякаемый запас энергии”.
Во свидетельство врачебных дарований Москати можно вспомнить об его встрече со знаменитым тенором Энрико Карузо. Тот возвратился в Неаполь после того, как на одном из концертов в Нью-Йорке у него открылось кровотечение. В Америке он консультировался с самыми знаменитыми врачами, то же самое он сделал в Риме, но никто не мог поставить ему правильного диагноза. В конце концов он обратился к Москати. Было уже слишком поздно, и Карузо оставалось жить всего два месяца, но интуиция неаполитанского врача сразу же подсказала ему, что дело в подмозговом нарыве.
Впоследствии всем пришлось с ним согласиться, хотя ничто уже не могло помочь сорокавосьмилетнему тенору, уехавшему из Неаполя бедняком и возвращавшемуся туда в 1921 году с колоссальным состоянием.
Врачебные познания Москати ему уже не могли помочь, но ему помогла его вера. И действительно, Москати не поколебался сказать Карузо, что “он посоветовался со всеми врачами, но не посоветовался с Иисусом Христом”.
Карузо ответил: “Профессор, делайте, что хотите”.
И Москати позаботился о том, чтобы ему принесли последнее причастие, и по-братски ухаживал за ним до конца.
Но вернемся к той славе, которой он пользовался как превосходный врач.
Один его коллега свидетельствует:
“Он ставил диагнозы так точно, что и ученики и маститые профессора только диву давались”.
Достаточно сказать, что высший медицинский авторитет того времени – Антонио Кардарелли, сделавший эпоху в итальянской медицине, считал Москати своим любимым учеником (“Это лучший ученик, который был у меня за шестьдесят лет”, – говорил он), выбрал его своим личным врачом и бывал тронут до слез, видя, как тот лечит больных.
Помимо посещения больных и осмотра толп народа, съезжавшихся к нему со всего юга и буквально не дававших ему прохода, он постоянно работал в больничных палатах, по которым ходил в сопровождении учеников, обучая их медицине непосредственно на основе наблюдения за больными (“Даже к студентам-первокурсникам он обращался как к коллегам и никогда не упускал случая спросить их мнения”).
Он часто говаривал:
“Рядом с больным нет иерархии. Все мы приходим сюда, чтобы учиться: заведующие, коадъюторы, ассистенты – все мы приходим к ложу больного, потому что больной – это книга природы”.
Потом урок продолжался в анатомическом театре.
Кафедра паталогоанатомии находилась тогда в упадке – никто не хотел ею заниматься, и Москати согласился безвозмездно заняться ее “реорганизацией и рациональным переустройством”. Над входной дверью было написано старое изречение, выбранное основателем, на которое никто уже, по-видимому, не обращал особого внимания. Оно гласило: “Hie est locus ubi mors gaudet succurrere vitam” – “Это место, где смерть радуется, ибо может помочь жизни”.
Москати начал с того, что приказал повесить на эти обветшавшие мрачные стены превосходной работы распятие с надписью под ним: “О mors его mors tua” – “О смерть, я стану твоей смертью!”. Вдохновляясь этим обещанием Воскресшего, Москати как бы совершал литургию, преображая и искупая это место, бывшее в глазах всех “нездоровым, угрюмым, убогим, гнетущим”.
Когда студенты входили и вставали вокруг преподавателя, тот на мгновение останавливал взгляд на распятии и все замечали, что он молча молится; потом он принимался за вскрытие, всегда начиная с какого-либо краткого, но достаточно выразительного напоминания: “Здесь кончается гордыня человека! вот что мы такое! как поучительна смерть!”. Или же, указывая на труп, он говорил: “Еще вчера это был наш пациент, а теперь мы видим некоторые органы, ему принадлежавшие… Если бы вы, молодые люди, время от времени размышляли о смерти, вы были бы гораздо добрее”. Так эта кафедра, бывшая, как он любил повторять, “местом, где мы, врачи, проверяем свои диагнозы и свои ошибки”, несмотря на убогое помещение и недостаток технических средств, по всеобщему свидетельству, достигла “блистательных научных высот”.
Ученики, проводившие все дни с Москати, буквально боготворили его и многие провожали его до дома, продолжая по дороге беседовать с ним и задавать ему вопросы. Один из них вспоминает о зрелище, ставшем обычным для Неаполя: “Мы шли за ним целой процессией, как будто он был святым”. И после воскресного обхода больничных палат почти все шли вместе с ним в церковь.
Сам преподаватель писал в одном письме:
“Я создал как бы религиозную монашескую общину: мы с моими друзьями работаем, соревнуясь, движимые возвышенными идеалами. Мы так сентиментальны! Бог ведет нас. Я решил, что все молодые люди (…) имеют право совершенствоваться, читая не печатную книгу, где все написано черным по белому, но книгу, обложка которой – больничные койки и лаборатории, а содержание – страждущая плоть человеческая и научный материал, – книгу, которую нужно читать с бесконечной любовью и величайшим самопожертвованием ради ближнего” (11 сентября 1923 года).
И он добавлял:
“Я думал, что долг моей совести – научить молодых. Мне внушало отвращение обыкновение ревниво скрывать от них плоды своего опыта, и я считал своей обязанностью поделиться с ними всем, что знаю…”.
Такое почти монашеское отношение к своему призванию и к больничной общине перекликается с другой характерной чертой Москати-мирянина, представлявшей для того времени нечто новое.
Во времена, когда призвания были четко отделены друг от друга – либо брак, либо монастырь – Москати решил оставаться в миру, не будучи связанным ни с какими монашескими объединениями, даже в качестве терциария, однако сознательно избрал безбрачие.
В записке, найденной его сестрой в корзине для бумаг, мы читаем нечто вроде его исповеди, записанной им для самого себя:
“Иисус, любовь моя! Твоя любовь возвышает меня; Твоя любовь освящает меня, обращает меня не к одному творению, но ко всем творениям, к бесконечной красоте всех существ, созданных по образу и подобию Твоему”.
Обращаться к Иисусу как к близкому человеку с самыми нежными словами, чувствовать Его совсем рядом покажется смешным рационалистам всех времен, а многим христианам кажется, что это возможно только в таинственном монастырском полумраке.
Но то, что это может происходить в миру, где работа становится для многих единственным богом и где научные и материальные заботы, кажется, порабощают даже дух,- это для мира загадка, ответ на которую – тайна Сына Божьего, ставшего нашим ближним, к Которому мы можем обращать слова, исполненные глубочайшей нежности.
Один священник, которому Москати часто исповедовался, рассказывает:
“Когда я его спросил, о чем он думал в битком набитом трамвае, где мы случайно встретились и где он купил мне билет, он ответил мне: “О Боге, отец мой, о небе””.
“Любить Бога, не зная меры в любви, не зная меры в страдании” – в этом был синтез его призвания быть врачом-христианином; вдохновляясь этой истиной, он смотрел на больных. Однако времена и среда, в которой он жил, не облегчали его задачу.
Вот некоторые свидетельства во время процесса о беатификации:
“Рабу Божьему приходилось бороться со всеми врачами – членами масонских лож – ибо он открыто исповедовал свою христианскую веру, а также с теми, кто видел в нем сильного соперника, несмотря на его молодой возраст”.
Стало быть, у ненависти масонов к Москати была скрытая подоплека (“ревность и зависть тех, кто не мог вынести его профессионального превосходства”), однако внешней причиной их яростной вражды было нечто иное.
Один очевидец рассказывает:
“Его презирали, высмеивали те, кому было не по душе честное, прямое и мужественное исповедание им католической веры: его называли маньяком, истериком, человеком не в своем уме, фанатиком”.
В его адрес звучали и другие оскорбления (и кое-кто из недоброжелательных коллег заботился о том, чтобы они дошли до его слуха) – его называли “фанатиком, дурным глазом, сумасшедшим, врачом священников и монашек”.
Москати работал в среде, буквально захваченной врачами, открыто принадлежавшими к масонству, и ярыми материалистами. И он прекрасно знал об этом. Более того, когда речь шла об истине и справедливости, он говорил об этом совершенно однозначно.
В одном из писем он писал:
“Я – звезда мельчайшей величины среди блистательных светил и буду рад исчезнуть в их свете, если, однако, взойдут яркие светила, а не мутные и слабые…”.
Он требовал, чтобы на конкурсах не было “ни компромиссов, ни закулисных маневров,… но лишь признание действительных заслуг, независимо от возраста, школы, группировок”.
В письме, отправленном им Бенедетто Кроче, в то время бывшему министром общественного образования, Москати горячо приветствовал назначение на кафедру гигиены своего коллеги, которого он считал более подходящим для этой должности, и не побоялся написать министру:
“Я знаю, что один высокопоставленный масон хочет пополнить число “братьев” на факультете, ставшем для них родным домом”.
Некоторые свидетели открыто и недвусмысленно говорили об отношении масонской секты к Москати: “Они хотели раздавить его, уничтожить”.
Но все замечали, что эта борьба его совершенно не задевает.
“Все знали, – говорит очевидец, – что Москати был как священник, и борьба, которую вели против него врачи-масоны и коллеги-материалисты, никогда не повергала его в уныние… Он часто говорил мне: “Что мне другие? Я забочусь о том, Чтобы угодить Богу””.
Впрочем, мы скоро увидим, что исповедание Москати его веры носило почти вызывающий характер, и сегодня его подвергли бы критике даже самые благочестивые и последовательные христиане.
Во время канонических процессов, на которых его поведение тщательно анализировалось и оценивалось, церковный судья часто даже в не очень завуалированной форме задавал вопрос: “Был ли Москати религиозным маньяком?”. “Нет, – отвечали все свидетели,- он был уравновешенным и внимательным человеком и ко всем относился с уважением. Однако его представление о своей профессии – и, следовательно, отношение к ней на деле – были, конечно, необычными”.
Дело было вот в чем: Москати был абсолютно убежден в том, “что врач должен заботиться не только о телесном здоровье больного, но и приходить на помощь всем потребностям больного и его семьи – потребностям любого рода”.
Поэтому он взял себе за правило относиться ко всем нуждающимся с той милосердной любовью, о которой мы говорили. Но с той же неумолимой логикой он считал главными духовные нужды пациентов и заботу об их душах. Необходимо сказать об этом с абсолютной ясностью.
Один очевидец говорит:
“Больные знали, что для того, чтобы лечиться у Москати, нужно приобщаться к таинствам”.
И еще: “У всех больных он спрашивал, в мире ли они с Богом, приобщаются ли к таинствам, нет ли на их совести тяжкого греха. Иными словами, он сначала лечил душу, а потом – тело больных, приходивших к нему”.
Москати со всей уверенностью утверждал, что в больнице “миссия всех” – монахинь, младшего медицинского персонала, врачей – “содействовать милосердию Божьему”.
Монахиня его отделения должна была прежде всего заботиться о духовном состоянии пациента и уведомлять о нем профессора, который, леча его со всевозможной самоотдачей и призвав на помощь весь свой опыт, старался помочь больному целостно осмыслить то, что с ним происходит, и почти всегда с непреклонной мягкостью внушал ему желание достичь исцеления, понимаемого как истинное спасение.
Призывы и утверждения: “Исповедуйтесь”, “примиритесь с Богом”, “приобщитесь к Господу”, “подумайте о бессмертной душе”, “жизнь и смерть – в руках Божьих” раньше или позже находили свое место среди врачебных указаний, даваемых Москати его пациентам, особенно тогда, когда он видел, что их жизнь в опасности и что в опасности их вечное спасение. Но дело в том, что когда он говорил об этом, больные уже так любили его, что почти всегда принимали эти указания с благодарностью, и многие слушались его.
Безошибочно поставив диагноз одному известному миланскому адвокату, чего не удавалось сделать никому из врачей, он вручил ему письмо, в котором рекомендовал ему одного из миланских священников, “дабы он примирился с Богом, так как уже много лет назад удалился от Него”, утверждая, что иначе не сможет вылечить его телесный недуг.
Другому больному, который, казалось, целый месяц лечился безрезультатно, он сказал: “Вы не исповедовались, поэтому и не выздоравливаете. Бог напоминает вам об этом”.
Тем, кто удивлялся его подходу к больным, он объяснял:
 “Говорить с больными о том, что не касается болезни, вошло у меня в привычку, потому что у них есть и душа… Так называемый фрейдистский психоанализ – это лечение; а что такое психоанализ? Это исповедь врачу с целью избавиться от навязчивых идей. Но это хорошо для протестантских стран, где нет исповеди, – а в нашей католической Церкви исповедь есть”.
“Говорить с больными о том, что не касается болезни, вошло у меня в привычку, потому что у них есть и душа… Так называемый фрейдистский психоанализ – это лечение; а что такое психоанализ? Это исповедь врачу с целью избавиться от навязчивых идей. Но это хорошо для протестантских стран, где нет исповеди, – а в нашей католической Церкви исповедь есть”.
Одному молодому человеку, самым тяжким недугом которого казалась абсолютная бесхребетность, он дал рецепт с надписью: “Лечение Евхаристией”.
Нам трудно представить себе, как Москати удавалось лечить душу одновременно с телом (следует отметить, что он отправлял больных лечить “духовный недуг” к какому-нибудь из своих знакомых священников, а потом лично проверял, состоялась ли встреча).
В письме к одному коллеге Москати пишет:
“Блаженны мы, врачи, если помним, что кроме тел перед нами – бессмертные души, которых, согласно евангельской заповеди, мы должны любить, как самих себя. В этом – наше удовлетворение, а не в том, чтобы слышать, как нас провозглашают целителями физических недугов” (и не без иронии он добавлял: “Особенно тогда, когда совесть подсказывает нам, что физический недуг прошел сам собой!”).
Окончание (Часть – 4 за 8 августа)

 “Это врачеватель телес и душ”, – говорил о нем Бартоло Лонго, построивший святилище Девы Марии в Помпеях, ныне также блаженный, бывший его пациентом.
“Это врачеватель телес и душ”, – говорил о нем Бартоло Лонго, построивший святилище Девы Марии в Помпеях, ныне также блаженный, бывший его пациентом.
Многие письма Москати свидетельствуют о том, что в таком же духе он воспитывал и своих учеников:
“Пусть чувство долга неизменно руководит вами при исполнении миссии, доверенной вам Провидением: думайте о том, что ваши больные прежде всего наделены душой, к которой вы должны найти подход и которую вы должны привести к Богу; подумайте о том, что на вас возлагается долг любви к учению, потому что только так вы можете выполнить свою великую задачу – помогать людям в несчастьи. Наука и вера!” (16 июля 1926).
“Помните о том, что вы должны заботиться не только о теле, но и о стенающих душах, прибегающих к вам. Сколько скорбей вы скорее облегчите советом или духовным утешением, нежели холодными аптекарскими рецептами” (1923).
Одному пациенту он советовал:
“Я прошу вас вспомнить о своем детстве и о тех чувствах, которые питали к вам ваши близкие, ваша мама; вернитесь к добродетельной жизни, и я клянусь вам, что помимо вашего Духа, и плоть ваша получит облегчение: вы исцелитесь душой и телом, потому что получите главное лекарство – бесконечную любовь” (23 июня 1923 года).
Но необходимо напомнить, что Москати не был ни целителем, ни чудотворцем: он был врачом, и врачом превосходным, однако был абсолютно убежден, что перед ним прежде всего – бессмертная душа.
Однако он никогда не вдавался в спиритуализм, пренебрегая телом. Одной монахине, которая хотела увести его на литургию в рабочее время, он резко ответил:
“Сестра, Богу служат, работая”.
А одной благочестивой даме, которая отказывалась лечиться, говоря, что достаточно молитв, он возражал:
“Для вашей души полезнее, чтобы вашему телу сделали один-единственный укол от болезни, чем читать множество молитв”.
Цельность личности Москати стала ясна всем его коллегам, даже его врагам, когда произошел случай, вошедший в историю Неаполя.
Шел февраль 1927 года. До смерти Москати, которую никак нельзя было предвидеть, оставалось всего два месяца. В Неаполь приехал выступать на научной конференции знаменитый профессор Леонардо Бьянки: он заведовал кафедрой психиатрии и нейрохирургии сначала в Палермо, а потом в Неаполе. Затем он стал министром народного образования, а впоследствии – министром обороны и вице-президентом палаты депутатов. В 75 лет он опубликовал книгу “Механика мозга”. Кроме того, он был известным масоном и несколько лет назад организовал открытую конференцию против Иисуса Христа.
Семидесятидевятилетний профессор выступал перед залом, битком набитым врачами и преподавателями, и вдруг, когда раздался гром аплодисментов, он упал за землю. В зале присутствовали врачи самых разных специальностей, и все, включая Москати, собрались вокруг него. Но послушаем рассказ самого Москати:
“Я не хотел идти на конференцию, потому что давно уже не был связан с университетом, но в тот день нечеловеческая сила, которой я не мог противиться, увлекла меня туда… Случилось то, о чем говорится в евангельской притче: призванные в час одиннадцатый получат то же вознаграждение, что и призванные в первый час дня. В моей памяти неизгладимо запечатлелся взор умирающего, искавшего меня среди множества собравшихся преподавателей… И Леонардо Бьянки были хорошо известны мои религиозные убеждения, так как он знал меня еще студентом. Я подбежал к нему, подсказал ему слова покаяния и упования, в то время как он сжимал мою руку, не в силах говорить…”.
Попробуем себе представить в тогдашнем масонском святилище – Неаполитанском университете – не только беспрецедентное событие – появление священника со Святыми Дарами, позванного Москати, но и смерть старого масона на руках святого врача, громко читавшего акт покаяния и Символ веры.
Таков был Москати.
И мы можем вспомнить взволнованные, даже потрясенные свидетельства известных деятелей культуры и науки, которые, общаясь с этим христианином нового типа (следует отметить, что с Москати можно было говорить о философии, об искусстве, о литературе, о музыке, о богословии, об урбанистике, с неизменной пользой и пищей для ума), задумались о себе самих и о своей судьбе.
Другой знаменитый неаполитанский врач, Кастеллино, неверующий, сказал о нем:
“Он был чудесным человеком и жил в неизменном общении со Христом, отверзающим могилы и побеждающим смерть”. Другой врач сказал:
“Он был самым совершенным воплощением любви, о которой говорит св. Павел в Послании к Коринфянам, какое мне когда-либо доводилось видеть”. Взгляды Бенедетто Кроче общеизвестны. Так вот, философ жил в мансарде, из окна которой он каждое утро мог видеть, как Москати спешил в больницу.
Часто они встречались и беседовали. Иногда для разговоров не было времени и тогда философ, как истинный неаполитанец, окликал его с балкона: “Дон Пеппино, я тебя не понимаю, почему ты все бежишь? куда ты идешь? чего ты надеешься достичь…? Все приходит в свое время”. А потом, вернувшись к себе, он говорил домработнице: “Если бы все католики были такими… если бы все были как дон Пеппино!”.
Кем же был этот человек, говоривший себе самому на страницах своего дневника:
“Люби истину, будь самим собой, без притворства, страхов и оглядок. И если истина навлекает на тебя преследования, прими их; и если она стоит тебе мук, терпи их. И если ради истины тебе придется принести в жертву самого себя и свою жизнь, принеси эту жертву мужественно”.
Так мы вновь подходим к той основополагающей проблеме, с которой начали свой рассказ, не желая давать на нее ответ заранее: что значит быть христианином в миру? Этот человек, признанный Церковью святым, понимал свою миссию так глубоко и целостно, как сегодня ее не понимает даже капеллан, заботящийся в больнице о духовном утешении больных. Был ли он истинным мирянином? или он был мирянином, незаслуженно взявшим на себя роль священника? было ли его стремление “лечить, кроме тела, и душу” абсурдной тоталитарной претензией или оно было пророчеством? В каком смысле можно предложить его сегодня как пример христианина-мирянина?
Мы не можем здесь подробно рассматривать эту проблему во всех ее богословских аспектах.
Можно лишь констатировать, что в Москати есть что-то уникальное и неповторимое: ему можно подражать, не копируя его поведение (поступки, указания, выражения), но прежде всего постигая, какую работу совершила в нем благодать Божья: работу по “уподоблению”, по “целостному преображению”, которой творение подчиняется беспрекословно: и именно этой работы следует ожидать для себя, именно к ней нужно себя подготовить благодаря глубокому смирению и аскезе.
Мы живем в эпоху, когда мы, христиане, стали очень искусно проводить “разделения”: между природным и сверхприродным началом, церковью и миром, верой и разумом, откровением и наукой, евангелизацией и прогрессом человечества, “уже и еще не”, единством и плюрализмом и т.д. Но эти тонкие разделения должен был бы проводить субъект, настолько безраздельно принадлежащий Христу, настолько органично привитый к Церкви, что разделения должны были бы ему служить только для выражения различных методов, согласно которым изливается, ширится и воплощается одна и та же милосердная любовь. Однако на самом деле разделения слишком часто служат лишь отвлеченным алиби, чтобы скрыть и оправдать незавершенность или робость личности, ее с трудом достигнутое равновесие или даже распад.
Поэтому Бог время от времени дает нам в пример верующих, чья личность столь целостна, что их даже хотелось бы обвинить в интегризме, если бы единство христианства не проявлялось во всем.
Здесь мы можем только указать основные черты того христианского идеала, которого Москати стремился достичь с помощью благодати Божьей:
1) Быть призванным к существованию и быть призванным к исполнению определенной миссии должно быть для христианина чем-то единым, как это было для Иисуса, “Я” Которого состояло в совершенном послушании Отцу и полном подчинении Его воле. Однако часто два эти призвания (к существованию и к миссии) остаются двумя отдельными мирами, которые с трудом стремятся сохранить хотя бы какие-то точки соприкосновения.
Москати была дана благодать ощущать и воплощать свое врачебное призвание как исчерпывающее выражение смысла и цели его существования, и ему он посвятил всю свою жизнь.
Еще в семнадцатилетнем возрасте он отвечал своей матери, предостерегавшей его от трудностей и опасностей профессии врача:
“Что вы говорите, мама! я готов лечь даже в постель больного!”. И мать, хорошо его знавшая, сказала пророческие слова: “Чтобы облегчить страдания больных, он сам станет мучеником!”.
Авторы биографий Москати согласно свидетельствуют о том, что он считал профессию врача призванием и миссией, которые должны довести его до истощения, в том числе и физического, потому что только так может исполниться Промысел Божий. Поэтому он просто и без колебаний соглашался идти повсюду, куда его звали и тащили, и иногда говорил о том, что “погружен в пучину чудовищного хаоса страданий”.
Одному из друзей он признавался:
“Пишу вам поздней ночью. Уверяю вас, у меня нет времени даже на то, чтобы схватиться руками за голову… Больница, лаборатории, официальные занятия, мои занятия по диагностике и в клинике, масса тяжелобольных в подавленном состоянии духа занимают меня целиком и не дают мне делать ничего другого” (январь 1919 года).
И, каким бы самоотверженным ни был профессор, ему приходилось ежедневно бороться со своей вспыльчивостью в ответ на любые неурядицы. Однако он всегда старался взять себя в руки, позволить обстоятельствам, все более неотступным, как бы выровнять все шероховатости своего характера.
Умер Москати неожиданно, в расцвете лет, после визита к больному, и не было никого, кто бы оказал ему помощь и поддержал его.
Его жизнь и деяния – это суд над всеми христианами, которые уклоняются от исполнения воли Божьей, отказываясь быть “бесполезными рабами”, потому что воспринимают свою миссию в Церкви и в мире как нечто расплывчатое, чуть ли не второстепенное для их существования, для их личности и поэтому в конечном счете ощущают неуверенность, ностальгию по другим возможностям, сомневаются в своем призвании, психологически готовы сменить его (женщины, живущие в целомудрии, хотели бы быть замужем, состоящие в браке хотели бы иметь другого супруга или хранить целомудрие, духовные лица хотели бы быть мирянами, а миряне хотели бы быть духовными лицами, люди, занимающиеся одной профессией, хотели бы найти свое самовыражение в чем-либо ином, и есть еще много других примеров); суд над всеми этими существованиями, которые не посвящены безраздельно исполнению миссии, им доверенной, или всех мнимых “миссий”, выбранных как экологическая ниша.
2) Существование и миссия христианина – это прежде всего приверженность ко Христу, горячая личная устремленность к Нему как к живому человеку, а не как к “точке отсчета”. Наиболее яркое знамение тому – жизнь в целомудрии. Любовь к ближнему должна быть знамением этой изначальной близости, которая возникает по воле Христа Господа и приносится Ему в жертву. Для христианина источником любви к ближнему является либо целомудрие, порожденное личной самоотдачей Христу, либо лишь психологическая попытка приблизиться ко Христу, совершая моралистическое насилие над собственными привязанностями.
В наше время, когда милосердная любовь в социальной сфере кажется чуть ли не упреком Христу, образ Москати напоминает нам о том, что у христианской любви есть совершенно определенный источник и свое лицо: это любовь Христова, которая должна воспламенить сердце Его ученика, по словам св. Павла.
Глядя на жизнь и на деяния Москати, никто не мог сомневаться в том, что он открыто исповедует свою любовь ко Христу. Тем, кто отвергал Иисуса Господа, Москати казался маньяком, с которым следует бороться и которого нужно уничтожить. Но если человек признавал Христа (хотя бы не без колебаний) и еще помнил о Нем (даже если былая вера ослабела), тогда Москати, творивший дела милосердия, являл для него свидетельство пламенное, исполненное убедительной силы. И никто не мог ошибаться ни на мгновение, думая, что речь идет о природной доброте доктора.
Аскеза и деятельное милосердие давали Москати право убежденно проповедовать Господа Иисуса: он стал бескорыстен, чтобы говорить нелицемерно, он стал всем для всех, чтобы указать Того, Кто является “всем”, он приносил в жертву больным свою жизнь, чтобы получить право говорить о жизни вечной. Иногда он даже просил больного вместо денег сделать ему другой подарок – причаститься, вернуться к утраченной вере.
“Когда я однажды спросил его, почему он отказался от денег, предложенных ему состоятельным больным, который был очень серьезно болен и был великим грешником, он ответил мне: “Я его обращу””.
Москати учил с неотразимой очевидностью, что в противовес тому, что сегодня думают и чему учат, любовь к ближнему является истинной только тогда, когда она целиком устремлена к любви ко Христу (Богу, ставшему ближним).
Аскеза, милосердие и социальная деятельность являются для мирянина либо выражением его целостного исповедания христианской веры (давать всего Христа всем людям), либо даже его добрые дела лишаются своего содержания, ибо ими пользуются те, кто стремится еще более погрузиться в свою духовную лень и равнодушие.
Если человек, действующий во имя Христово, думает, что он может делать это анонимно, тем более законным будет анонимат для того, кто получает плод самих его дел. В этом, быть может, коренится парадокс современной ситуации: Церковь и миряне ведут энергичную профессиональную и каритативную деятельность, однако вера постепенно слабеет именно там, где христиане живут и действуют наиболее активно.
Согласно Москати, надлежит постоянно творить дела милосердия, чтобы обрести право на целостную проповедь о Христе, и, проповедуя Христа, надо быть целостной личностью, чтобы дела милосердия не растворились в туманной филантропии, которой беззастенчиво пользуются именно те, кто хочет самоутвердиться и утвердить мир, отрицая Христа.
3) Чем более христианской является милосердная любовь, описанная нами, тем более она стремится изнутри привести к единству сознание человека, являя, таким образом, свою всеобъемлющую силу: она устанавливает неожиданные связи, открывает неведомые возможности, вдохновляет энергию в самых разных ситуациях. Различные “планы” реальности не подвергаются интегристскому отрицанию, однако наблюдается неожиданная “текучесть”, в силу которой естественное естественным образом сливается со сверхъестественным, а сверхъестественное сверхъестественным образом открывается естественному.
В жизни Москати эта текучесть проявлялась в разных направлениях. Скажем несколько слов и об этом.
а) С точки зрения медицинского искусства мы можем сказать, что его профессиональные способности мощно окрепли. Это можно утверждать в двояком смысле. С одной стороны, казалось, что вера (христианский подход к больному) обострила его и без того выдающиеся способности к диагностике: казалось, он угадывал, видел телесные болезни, замечал недоступные наблюдению симптомы, что изумляло его коллег. С другой стороны, его пронизывающая интуиция достигала таких глубин, что часто он ставил и диагноз душевных недугов.
Он сам признавался:
“Господь дарует мне такое ясновидение, что я не могу воспрепятствовать ему, и нередко вижу уродство душ больных”.
Иногда происходили случаи, пугавшие его самого. Однажды он вернулся домой взволнованным и рассказал сестре:
“Знаешь, что произошло со мной сегодня? Ко мне пришла одна дама со своей дочерью. Дочери было года двадцать четыре-двадцать пять. Посмотрев на нее, я ей сказал: “Барышня, вы еще не приняли первого причастия!”. По ее слезам я заключил, что так оно и есть. Потом я пристально посмотрел на даму и сказал ей: “Госпожа, вы живете со священником-расстригой”. Знаешь, все это была правда, и я не могу себе объяснить, как я об этом догадался!”.
Сестре пришлось утешить его, говоря, что это, конечно, одно из совпадений, которые иногда бывают.
И в том, что касается физических недугов, и в том, что касается недугов духовных, он, казалось, был наделен сверхъестественными дарованиями (точно так же, как Христос, согласно рассказам Евангелия!). Но здесь необходимо сказать, что в Москати эти дарования были не дарованиями чудотворца, механически добавленными к обычным врачебным способностям, – напротив, они являлись как бы чудом уподобления. Иначе говоря, казалось, будто, пройдя весь путь науки (а Москати занимался постоянно) и пройдя весь путь духовного созревания, который был для него возможен, его личность укоренилась в точке, где они сходятся: там, где его взгляд мог быть обращен и в ту и в другую сторону, чтобы придти к их синтезу. В определенный период жизни Москати наука и вера явили в нем не только свою не-противоречивость, но милосердную любовь как свою конечную сущность, будучи различными проявлениями той премудрой любви, которая вместе создала и искупила их.
Укоренившись в милосердной любви, Москати стал великим врачом благодаря своей вере и великим верующим благодаря своим знаниям.
б) Что касается пациента, уподобление, достигнутое благодаря милосердной любви, позволило Москати воспринимать антиномию болезни-выздоровления относительно всего человеческого бытия, предвосхищая новейшие научные достижения. Иоанн Павел II в речи на канонизации сказал, что он “способствовал гуманизации медицины, которая сегодня воспринимается как необходимое условие помощи тем, кто страдает, и предвосхитил ее”.
И действительно, в последние десятилетия все больше врачей сомневается в возможности лечить человека, исходя из того, что речь идет только о телесной болезни или плохой работе какого-либо органа. Врачи занимаются и лечением души, однако, к сожалению, движутся часто наощупь, следуя той или иной школе (часто эти школы считают и душу больным органом, над которым можно производить самые жестокие операции и манипуляции).
Благодаря своей милосердной любви Москати воспринимал больных как целостное единство и мужественно защищал их человеческое достоинство.
Когда зашла речь о том, чтобы превратить больницы в клиники, чего добивался Джентиле, он написал своему другу Бенедетто Кроче письмо, в котором протестовал против “постановлений, которые распоряжаются человеческой плотью, как товаром”, и в которых “больных стремятся сбыть с рук, как акции на бирже”.
В одной рецензии он писал: “Боль нужно воспринимать не как судорогу или мышечное сокращение, но как крик души, на который брат больного, врач, бежит с пламенной любовью и милосердием”.
Однако и здесь нужно сделать еще один шаг: Москати не только воспринимал больного как духовно-телесное единство и не только воспринимал болезнь в ее целостном и нравственном аспектах, но все это казалось ему необходимым минимумом для дальнейшего углубления в “человека как единое целое”. Лечение человека как психо-физического единства должно было достичь его духовных глубин, сокровенного душевного страдания, сокровенной устремленности к счастью, вдохновляясь трансцендентными ценностями.
С медицинской точки зрения проблема болезни-выздоровления должна восприниматься как исходя из целостности “болезни” (вплоть до болезни-зла-греха), так и целостности здоровья (вплоть до здоровья-спасения), как исходя из единения тех, кто работает в разных сферах (единения, а не просто распределения ролей), так, наконец, и единства лечебных учреждений.
Москати не только воспринимал свою профессию как профессию, которая сродни священству, но и пытался, действуя в исторических обстоятельствах своего времени, милосердно и тактично привести больных к покаянию и к вере в сверхъестественную жизнь. То, что он делал в одиночку в то время, когда царило полное равнодушие к глубинной сути личности больных, сегодня можно предложить как пример для всех.
Возникает вопрос: достаточно ли для Церкви и для христиан-мирян держать в больницах или в санаториях священников или монашествующих, цель деятельности которых – не добиться выздоровления в полном смысле этого слова, но в лучшем случае утешить пациента, когда болезнь внушает ему страх или когда выздоровление невозможно?
Самое меньшее, что можно сказать, – это что разумение, преображенное любовью, и любовь, ставшая разумной деятельностью, многому научились бы от этого главного врача-мирянина, который в одиночку защищал право пациента на целостное лечение и долг врача лечить именно так: иначе говоря, от человека, который хотел лечить, а не только ходить с визитами и выписывать рецепты.
Многому от него можно научиться и, вдохновляясь его примером, многого можно достичь.
 На проникнутое глубокой благодарностью письмо своего ученика-врача, отправлявшегося по месту своего первого назначения, Москати ответил так:
На проникнутое глубокой благодарностью письмо своего ученика-врача, отправлявшегося по месту своего первого назначения, Москати ответил так:
“Не наука, но любовь преобразила мир… Я всегда в глубине сердца жалею, что вы далеко от меня, и меня утешает только мысль о том, что что-то от меня осталось в вас; не потому, чтобы я чего-нибудь стоил, но в силу того духовного заряда, который я стараюсь сохранить и распространить вокруг. Я все время помню о вас, будьте уверены в этом. Целую вас во Христе!”.
Быть может, теперь нам легче понять, почему кардинал Ронкалли, прочитав жизнеописание Москати, назвал его Lumen ecclesiae, светом Церкви. Созванный им II Ватиканский Собор сказал впоследствии, что задача Церкви – “отражать в мире тот Свет Народов (Lumen Gentium), которым является Христос”.
Так вот, Церковь сможет сделать это только в том случае, если отблеск этого света будет ежедневно сиять на лицах мирян.
Когда в Страстной четверг 1927 года похоронная процессия шла по улицам Неаполя – в ней принимало участие множество преподавателей, студентов и простого люда – один старик подошел к столику, поставленному у входа в дом Москати, и дрожащей рукой записал в книге соболезнований:
“Мы оплакиваем его, потому что мир потерял святого, Неаполь – пример всяческих добродетелей, а больные бедняки потеряли все”.
Антонио Сикари. Портреты Святых
 Рубрики
Рубрики  Метки:
Метки: